Джордж говорит, она почувствует побуждение. Тяга будет столь сильной, что противиться будет так же трудно, как наложить Непростительное. Но последнее ей делать уже приходилось, потому ее не особенно беспокоят его слова. К тому же? она прочла бесчисленное количество книг по Темным Искусствам, и ей еще предстоит подчиниться их манящей власти. Джордж говорит, это другое. Замешана тут будет не голова, а гормоны. И, возможно, при условии должной восприимчивости, сердце.
Он говорит, она невинна, как новорожденный младенец. Не выводить же его из заблуждения. Гибель Фреда сделала его довольно уязвимым и, хотя она думала, что он знает (должен был знать) о ее с Роном бурных отношениях, тянувшихся несколько месяцев после битвы (не говоря уже о других, безымянных любовниках), она полагает, Джорджу она как сестра – очень уж хочется ему заполнить освобожденное Фредом место. Она не желает разбивать его иллюзии. И без того даже теперь, спустя десять лет, осколков в его жизни предостаточно.)
Впрочем, быть может, насчет ее сердца он прав.
Но это эксперимент. Джордж говорит, что верит в любовь и в то, что нужно помогать влюбленным, если между ними есть зародыш взаимного влечения. Он просто разработал эту штуку – так он сказал Гермионе – в ее чистом виде, и силу ее действия можно ограничивать по потребности каждого покупателя. Но в способность Гермионы воспротивиться этой силе именно в чистом, неразбавленном виде он, видимо, верил.
Ускорять события – дело нынче популярное и прибыльное: апокалипсис предотвращен, и волшебный мир будто наверстывал упущенное время. Лично для нее строить планы и жить не спеша – одно удовольствие. Ее первые восемнадцать лет пролетели быстрее Хогвартс Экспресса. Смаковать несколько последних времени было больше.
Она подозрительно рассматривает врученную ей банку. Крышка банки запечатана каким-то воском.
– Она не кусается, Гермиона. Печать замкнута на меня. Никто не может открыть банку, если только я не передам ее лично в руки.
Все еще колеблясь – в конце концов, это ведь Джордж Уизли – Гермиона легонько надавливает на крышку большим пальцем. Печать ломается с щелчком и крышка сходит.
– А теперь возьми шар в одну руку и накрой его другой. Ощути его структуру кожей. Как только почувствуешь тепло, поднеси руки к носу и скажи мне, что это за запах.
Она выполняет его указания, изумляясь тому, как этот вибрирующий… предмет – другим словом его не назовешь – дрожит в ее ладони. От него исходит странная энергия, и ее так и тянет удержать эту энергию, чтобы она не улетучилась. На вид он гладкий и пятен на нем нет, однако, вот он, лежит в ее ладони, и она замечает, как на нем постепенно появляются мелкие отметины и вмятины, и цвет его меняется от теплого коричневого до черного как ночь. На ощупь… горячо.
Она быстро обхватывает шар руками, и глаза ее расширяются, когда жар в ладонях становится почти болезненным. Она бросает взгляд на Джорджа, слишком встревоженная, чтобы скрывать свой испуг.
Кажется, он удивлен.
– Горячо?
Она кивает.
– Слишком горячо?
Она мотает головой – ну правда же, не слишком. Жар просто напоминает о себе, но отпускать его не хочется.
– И что это значит?
Джордж кривится.
– По моим расчетам, ощущения каждого человека будут уникальны. Могу предположить, что любая чрезмерная реакция показывает степень влечения.
Он пожимает плечами.
– Если больно, можешь положить.
Гермиона снова мотает головой.
– Ничего. Мне нравится.
Он показывает жестами, что пора переходить к следующему этапу.
Теперь она медлит. Ни один человек, обладающий хоть крупицей здравого смысла, не поднесет ничего из продукции Уизли – а уж тем более прототип – к своему лицу, не обдумав всё немного. Но Гермиона обещала помочь ему и вполне уверена, что она ему все-таки больше пригодится, если все ее чувства и конечности останутся целыми и невредимыми. Она его контроль качества – еще раз спасти мир от Судьбы, Худшей Чем Смерть. При этой мысли она улыбается, пока подергивание в ладони не возвращает ее к делу.
Она осторожно подносит шар к носу и делает вдох.
Бергамот и апельсин. Нотка оливкового масла. Этот запах знаком ей очень хорошо – она столько раз пыталась воссоздать его с частичным успехом. Ей пришлось признать, что в нем не хватало в основном самого Северуса, тонкого аромата его кожи. Или ей так кажется.
Она вдыхает полной грудью, ресницы ее прикрытых глаз дрожат, и тонкие губы Джорджа изгибаются в мгновенной усмешке.
Шар перекатывается и дергается в ее руках, и она чувствует, как его ранее гладкая поверхность становится колючей и его уже трудно держать. Она осторожно подносит руки еще ближе и тихонько дышит через небольшую щель между большими пальцами. Шар успокаивается, прежде перекатившись еще несколько раз, и спокойствие его странное, неподвижное. Будто он находится именно там, где хочет находиться.
Гермиона чувствует тихое торжество. Ей понадобилось время, но теперь она знает, как это сделать.
Голос Джорджа разрывает пелену ее мечтательной задумчивости, слишком громкий в этой тихой комнате.
– Что за запах, Гермиона? – перо Джорджа наготове. Никогда он не бывает серьезнее, чем в те моменты, когда что-то изобретает.
Она вздыхает и усмехается.
– Ничего определенного. Сандал, кажется. И запах собственных рук. Думаю, тебе есть над чем поработать, Джордж, извини.
Безупречная ложь.
Она неохотно кладет шар – из рук ее он выскальзывает таким же, каким был – гладкий, насыщенного медово-коричневого цвета – в банку и передает творцу.
Продолжая улыбаться, она наблюдает, как он осторожно ставит банку обратно на полку. Она открывает дверь и уходит.
Подождать.
Немного терпения.
Ведь если она этого хочет, это не принуждение.
– Мы с Фредом начали работать над ним еще в Хогвартсе.
В его голосе звучит нечто похожее на извинение, и это укрепляет Северуса во мнении, что Джордж все еще отчасти мальчишка, пусть и взрослый. Он всегда оценивал по достоинству исключительный потенциал близнецов Уизли, даже оберегая от них свою кладовую и лабораторное оборудование в их школьные дни, в господство террора. И огромное удовольствие ему приносил тот факт, что остальные их учителя этот урок не выучили.
– Действие его очень мягкое.
Джордж берет крохотную бутылочку обеими руками и бережно прижимает ее к груди.
Северусу видно плохо, но будь он проклят, если заглянет через плечо Уизли. Они уже два года коллеги, но он хотя бы соблюдает формальности, приличествовавшие их прежним отношениям. Уизли не столь консервативен – втайне Северус чрезвычайно этим доволен, а внешне выказывает свое презрение. Уизли то и дело хлопает его по спине, а еще чаще звучит его дразнящий смех. Но как бы Северус ни стремился показать обратное, он уважает изобретательский гений Уизли, не говоря уже о его способности к концентрации и о его энергии. И смех этот снова слышать ему приятно. Это были лучшие два года в жизни Северуса.
Джордж держит бутылочку, рассматривая ее на свет из окна.
– В естественном состоянии оно бесцветно и совершенно безвредно. С водой его не спутаешь: стоит наклонить бутылочку, как вещество кажется почти твердым. Как продолжение стекла.
Быстрый взгляд на Северуса.
– Однако, как только человек узнаёт, для чего служит зелье, оно принимает уникальную форму – какую – видит только он один, и он должен различить в нем того человека, к которому его влечет. Это не любовное зелье, Северус, – Джордж заметил, как Северус закатил глаза, прежде чем это заметил сам Северус, – с любовными мы завязали еще к концу пятого курса. От них были одни проблемы – неприятные проблемы, если ты понимаешь, о чем я – по крайней мере, у нас.
Его передергивает, и Северусу даже не хочется гадать, о чем это он вспомнил. Закашлявшись, Джордж криво усмехается.
– А вот с этим, знаешь, никакого принуждения не будет. Только уверенность, честно, чтобы закрепить чувство. Кому хочется выглядеть дураком из-за любви?
Джордж замолкает и поднимает взгляд.
Северус не поддается. Как всегда. Не поддашься – не оступишься. По крайней мере, не перед бывшим учеником, тем более перед Уизли.
– Как бы там ни было, – весело продолжает Джордж, – чтобы зелье подействовало, его не нужно не глотать, ни мазать на кожу. Нужно просто быть в комнате, когда снимают крышку, а дальше всю работу делают легкие, – он хмурится. – Над этим мне, пожалуй, еще предстоит поработать.
И прежде чем Северус успевает остановить его, Джордж ставит бутылочку на подоконник и снимает крышку.
– Скажи мне, что ты видишь.
Северус невольно делает глубокий вдох и сдерживает стон, поняв, что попался. Заставлять себя не смотреть на зелье он способен не дольше, чем не дышать. Зажмурившись на мгновение, он сдается и смотрит во все глаза.
И ничего. Прозрачность зелья будто насмехается над ним.
Он не спрашивает, видит ли что-нибудь Уизли.
Еще вдох и вдруг – словно в награду – он видит, как водоворот бурной пузырящейся жидкости цвета шоколада бьется о стенки бутылочки. Он почти готов поклясться, что она живая.
Ближе. Он слышит, как Уизли зовет его по имени, словно издалека, но не откликается. Всё, что ему нужно, – здесь, в этой комнате, сейчас, в этот самый миг.
Точно.
Это ее глаза он видит. Эта бурлящая масса – ее волосы – так она стремительно оборачивается к нему, подначивая его оспорить ее доводы. (Он обожает ее темперамент – в последние несколько лет неизменно сдобренный чувством юмора – когда он направлен на него.) Макнуть палец в это жидкое изобилие и поднести ко рту – и он наверняка почувствует ее вкус.
Он не может отвести глаз, но отводит.
– Прозрачное оно, Уизли. Больше мне сказать нечего, – Северус надевает свое маггловское пальто – таким характерным движением, от которого мурашки по коже и ушки на макушке. – Придется начинать с чистого листа.
Почти насмешка, но не совсем.
Он проходит в открытую дверь. Гермиона ждет в лаборатории.
– Вы как всегда неосторожны с тайнами, Гермиона, – Северус закрывает дверь и набрасывает защитные чары.
Она позволяет ему провоцировать ее. До постыдного легкое и преступное удовольствие.
Она подлетает к нему, застыв в нескольких дюймах от его внушительного носа (те, кто способен оценить изящество, говорят, что Гермиона похожа на изваяние), и вдруг склоняется ближе, и язык ее бабочкой порхает по ее верхней губе. Шумный вдох, и ее рука ложится на его плечо.
– Северус?
Он излучает… нечто, она не знает точно, что, но сейчас она к нему ближе, чем когда-либо, и она подносит обе руки к его лицу, просто чтобы удержать.
Секундное сомнение, и вот, его руки уже в ее волосах, и он смотрит в ее глаза так напряженно, что она знает – он видит ее.
Она не может удержать этот поцелуй, а он и не пытается.
Довольно улыбаясь, Джордж Уизли копается в своей мастерской. Голос Фреда почти постоянно звучит в его голове, так что он редко чувствует одиночество. Кроме того, он считает, что сейчас видит всё гораздо лучше, чем раньше, когда его отвлекал живой Фред. Когда нечего опасаться летящего в лицо торта, глаза можно использовать для того, чтобы как следует оглядеться вокруг. Никто и не думает, что ты что-то заметишь, но ты всё замечаешь.
Близнец Уизли не калека, даже если у него нет уха.
Джордж знает, что на него работать нелегко. Его разум блуждает в слишком многих направлениях сразу, и никаких рабочих часов он не соблюдает, если ему в голову вдруг приходит идея, которую необходимо тотчас исследовать. Плюс постоянная угроза взрывов или того хуже.
Однако при всем упорядоченном хаосе своей жизни кое в чем Джордж убежден. Он убежден, что эти двое, работавшие с ним и поддерживавшие его без устали, пусть и не без жалоб (или сарказма), заслуживают нечто большее, чем щедрой прибавки к зарплате. Они заслуживают того, чтобы в их жизни появилось немного любви. Они заслуживают друг друга. Дай им любви, и можешь оставить себе свои галеоны. Он весело пыхтит.
Лаборатория обрела свой первозданный вид и готова к завтрашней работе, и довольный Джордж Уизли берет банку со сломанной печатью и крохотную бутылочку, наполненную прозрачной жидкостью неопределенной вязкости, и запирает их в шкафу в самой глубине своей кладовой.
И выбрасывает ключ.
В конце концов, уж он-то знает, что волшебство, а что нет.
______________________________________________________________
1Перефразированная цитата из У. Шекспира, «Макбет»: Double, double, toil and trouble (Акт IV, сцена I) - «Двойная работа, двойная забота» (пер. В. Раппопорт)









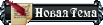


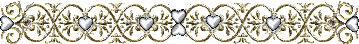




















 А в целом неплохо.
А в целом неплохо.